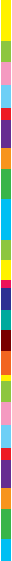XIII. ПРОКАТНАЯ ЛОШАДЬ
Так как Кугуар непригоден был больше для родео, его продали за двадцать пять долларов на извозчичий двор.
Содержатель двора решил, что на двадцать пять долларов он выжмет из него пользы - лошадь была гладка и сильна на вид, ее можно было пустить под упряжку вместе с другими лошадьми, которых он держал для сдачи напрокат.
Но однажды, прежде чем упряжь обесчестила шкуру Кугуара, в город заехала кучка туристов, и кому-то взбрело на ум поразвлечься верховой ездой. Содержатель двора прикинул, сколько он может им дать голов, и увидел, что у него не хватает трех верховых лошадей. Порыскав немного, он наскреб еще двух, но третьей достать было негде, и тогда-то его взгляд упал на Дымку.
Сперва он было и не подумал о нем, но деньгами швыряться ему не приходилось. Он поймал Дымку, оседлал его и с замирающим духом взгромоздился в седло. Если в лошади оставалось еще сколько-нибудь дури, он должен был выяснить это раз навсегда.
Но Кугуар прокатил его по коралю, не выгнув даже горба. Ноги у седока перестали трястись, и белое его лицо понемногу приобрело свой обычный оттенок.
- Клянусь честью, - воскликнул он, обращаясь к двери конюшни, - это заправская верховая лошадка!
Когда немного погодя показались туристы в ослепительных костюмах для верховой езды, хозяин двора уже ожидал их. Он окинул их взглядом, чтобы решить, кому лучше подходит какая лошадь, и, все еще сомневаясь насчет того, как будет вести себя Кугуар, выбрал из них самого сильного и самого ловкого на вид молодого человека. Вручая ему поводья Кугуара, он осторожно спросил:
- Надеюсь, вы ездите хорошо?
Молодой человек обернулся к нему, удивленный подобным вопросом, и едко ответил:
- Разумеется, хорошо.
«Хотелось бы мне, чтобы он был в этом так же уверен на обратном пути», - подумал старик, глядя вслед ускакавшей компании.
Был уже вечер, когда туристы, болтаясь в седлах, вернулись на двор. У хозяина отлегло от сердца, когда он увидел, что парень по-прежнему сидит на Кугуаре. Он было пожалел уже, что отпустил его на этой лошади, но теперь об этом нечего было тужить - все сошло как нельзя лучше, молодежь была очень довольна прогулкой и даже заказала лошадей на следующий день.
- А лошадь недурна, - сказал молодой человек, передавая хозяину поводья Кугуара, и в голосе его прозвучало: «Вот видите, как я езжу».
Старик видал немало таких молодцов и знал, чего стоит их уменье, но ему приятно было услышать, как хорошо вел себя Кугуар.
- А как эту лошадь зовут? - спросил молодой человек.
С минуту старик помедлил с ответом: если бы он сказал настоящее имя лошади, молодчик раздулся бы и лопнул от гордости, а потом он мог побояться взять лошадь вторично. Подумав об этом, хозяин двора дал лошади новое имя.
- Эту лошадь зовут Сумрак, - ответил он.
Сумрак - это имя звучало неплохо и к цвету лошади подходило вполне, но не суждено ему было греметь, как гремело имя Дымки в лагерях и коралях Севера, не суждено ему было катиться из штата в штат, трепетом наполняя сердца, подобно имени Кугуара.
Но лошадь уже была не та. Из редкой ковбойской лошади она стала чемпионом неукротимости для того лишь, чтобы скатиться к прокатному двору, где всякий Том, Дик или Гарри мог болтаться на ней сколько ему вздумается. Сумрак - столько-то центов в час.
Быть может, сердце Дымки начало стареть. Во всяком случае, познакомившись немного с прокатным двором, он принял свою долю без храпа и фырканья. Ему все было безразлично, и скоро главным интересом в его жизни стала охапка сена и немного зерна, которые он получал, окончив дневную работу. Как-то конюх пришел к нему в стойло и почистил его скребницей, для него это было ново: никогда еще скребница не прикасалась к его шкуре. Ему это было приятно, а через несколько времени он стал ожидать чистки уже наперед, хорошо - вываляться в пыли, а это было немногим хуже. Чистка, корм и покой - вот все, что нужно было теперь Дымке.
Он должен был трудиться, чтобы заработать и корм, и уход. Работать он был не прочь, но эта бесцельная гонка, которая доставалась ему почти каждый день, была ему не слишком по вкусу. Он был объезжен для того, чтобы делать полезное дело - дело, в котором была нужда. Работа на родео тоже имела смысл, а эти «кавалеристы», как их называли, и сами не знали, чего они хотят. Они разъезжали взад и вперед, держа поводья в обеих руках, будто пахали землю. По твердой мостовой они гоняли его вскачь, а по мягкой земле, где копыту было легко, пускали его шагом. Не удивительно, что к концу дня он не знал, как добраться до стойла.
Никогда еще лошадь не ценила ночного отдыха так, как теперь. Она прищуривала глаза от удовольствия и медленно пережевывала зерно и сено, будто боялась, что вот оно кончится и снова начнется гонка. Потом ненадолго ее глаза закрывались совсем.
Почти каждое утро, чуть свет, приходил седой дородный мужчина. Маленькое, блином, седло с болтающимися железными стременами ложилось на спину лошади. Пыхтя и отдуваясь, ездок кое-как взбирался на Дымку и выезжал на прогулку.
Человек был грузен и плохо седлал его, но, несмотря на это, познакомившись с ним немного, Сумрак почувствовал к нему что-то вроде привязанности. Он, казалось, знал, куда ему ехать, а когда приезжал на место, хотя б это было открытое поле, всегда сходил наземь и разговаривал с ним, и Сумрак слушал - ему приятен был звук его голоса.
Утром поездки всегда совершались за город, куда-нибудь вверх по каньону, и Сумраку привольней дышалось в этих местах, человек не гонял его зря, а если и пускал рысью или галопом, то делал это с толком, так что это приятно было и человеку и лошади. Редко случалось возвращаться Сумраку с утренней прогулки в поту.
Но тут только и начиналась для него дневная работа, едва останавливался он у конюшни, на нем меняли седло, и другой седок, которому не терпелось «прокатиться», взбирался на него и трогал поводьями. К полудню Сумрак привозил его назад и едва успевал прожевать овес, как новый «кавалерист» появлялся в дверях конюшни и просил дать ему именно Сумрака.
- Знаете, я обожаю кататься на этой лошадке!
Все предпочитали Сумрака другим лошадям, и хозяин давал его когда только мог, подбавляя ему корма, чтобы он не свалился. Случалось, лошадь была под седлом до поздней ночи, она возвращалась шатаясь и обливаясь потом. Но все равно на другой день ее ожидала работа.
Люди всякого роста, возраста, телосложения, умелые и неумелые равно приходили и ездили на Сумраке. Изредка всадник обращался с ним правильно, будто понимая, что у лошади есть чувства и разуменье, но по большей части никто не считался с ее чувствами, никому и в голову не приходило, что, может быть, лошадь прошла слишком много или сильно устала. Хуже всего доставалось Сумраку от мальчиков - они быстро гнали лошадь к старости и к концу.
Все они, едва успевали сесть в седло, пускали Сумрака вскачь и держали его на галопе от первой минуты до последней. Они гоняли его вверх и вниз по улицам и переулкам, давали поездить на нем другим мальчикам, и всякий из них выходил из себя, чтобы показать, как быстро он может заставить скакать уставшую лошадь.
Иногда, чтобы заставить Сумрака идти быстрее, всадники пускали в ход шпоры и хлыст, тогда умершее сердце Кугуара начинало подавать признаки жизни, но Дымка не мог повернуть вспять по пройденному пути - слишком он был утомлен. И когда пыталось проснуться в нем сердце Кугуара, огонь вспыхивал и потухал, и новый удар хлыста приводил его к послушанию, и он опять начинал выбиваться из сил, как и подобало Сумраку - лошади напрокат.
Мальчики, девочки и взрослые продолжали скакать на старом коне, не подозревая, что медленно и верно гонят его к преждевременной смерти. Они похожи были на стаю волков. Никто из них и на сотню ярдов не подступился бы к нему, когда он был силен, никому бы и в мысль не пришло сесть на него, когда он был Кугуаром, жаждущим битвы и убийства. Теперь же все они рвали его на части. Вся разница в том, что стая волков убивает свою жертву быстро, не дает ее жизни тянуться днями, неделями, месяцами, не замучивает ее до медленной, постепенной смерти. И потом, волк убивает, чтоб есть и чтоб жить. Но люди не знали, что убивают Сумрака. Он всегда бежал охотно, не требуя шпор, и часто, а то и всегда, его готовность сделать все, что было в его силах, вводила седоков в заблуждение: они были уверены, что он чувствует себя превосходно и радуется быстрому бегу.
Они не знали различия между уставшей, обессилевшей лошадью и лошадью свежей, годной к езде.
А были и такие, которые и вовсе не думали о Сумраке. Лошадь для них была лошадью - и только, они ничего не смыслили в лошадях. Им казалось, что лошадь - это что-то вроде автомобиля и в любую минуту может идти с любой быстротой, для этого ей только нужно давать удары хлыстом.
Пришла зима, и серые холодные ветры потянули из-за гор. Людям не стало охоты бродить под открытым небом, им куда приятней было иметь над головой крышу и слушать, как ворчит меж четырех стен огонь.
Туристы все поразъехались. Город вымер. Кто проклинал непогоду, кто занят был возкой дров и угля, и ни у кого не было доброго слова для старой зимы, ни у кого, кроме старой прокатной клячи.
Старая лошадь не могла сказать ничего, но она чувствовала то, чего не могла сказать. Она чувствовала, что приход зимы и исчезновение туристов спасли тот огрызок жизни, что в ней оставался. На спине у нее были подпарины от седла, отощала она так, что похожа была на мешок с костями, шкура выцвела от вечного пота, местами шерсть вылезла вовсе. Утомленные ноги подгибались под ней и едва выдерживали тяжесть ее тела, еще несколько недель - и старая лошадь была бы готова: давно уже она работала за счет нервов, и эти нервы быстро выматывались из нее.
Но зима пришла вовремя и спасла ее. Две недели холодные ветры выли, свистели сквозь щели конюшни и сотрясали ее стены, и в эти две недели старая лошадь оправилась настолько, что могла прислушиваться к вою ветра и радоваться тому, что ни один ездок не приходит тревожить ее покой.
Этот ветер был сладкой музыкой для ее ушей, она наслаждалась дремотой и просыпалась только для того, чтобы увидеть свежий навильник сена в яслях. Она медленно ела, прислушиваясь к ветру, и под звук его снова погружалась в сон. Может быть, ей виделась далекая прерия и рядом с ней появлялся Пекос и другие лошади «Рокин Р.», а с крутого склона смотрел на нее Клинт – единственный друг, которого знала она в жизни.
Зимние месяцы шли, и Сумрак снова становился похож на лошадь, потом настала весна, и людей потянуло на волю. Однажды снова пришел в конюшню тот седой человек, который ездил на Сумраке по утрам, он принят был как старый клиент. А двумя днями позже пришла молодая девушка, которая «ужасно любила лошадей», и спросила, не может ли она кататься на Сумраке каждый день после обеда, но только в хорошую погоду. Хозяин двора попробовал дать ей лошадь и, заметив, что она заботливо с ней обращается, решил, что она будет вторым постоянным клиентом у Сумрака. Он решил, что этих двух ездоков в день достаточно будет для старой лошади, и не давал больше Сумрака никому. Но у Сумрака быстро деревенели плечи и передние ноги, прежнего просторного хода не было и в помине, и когда передние ноги его касались земли, казалось, он опускает их на иголки – так старался он уберечь от толчка свои наболевшие плечи.
Порой ему хотелось, как бывало, грудью разрезать ветер, но это желание было в сердце, а ноги ему не подчинялись. Старые ноги слишком жестко, слишком часто ударяли в землю, вышибая из седел ездоков на родео. И первый год работы в конюшне, скачки по твердым, мощеным улицам города не прошли без следа: сухожилия и связки были растянуты, копыта – в трещинах.
Но ни седой человек, ни девушка, которые ездили на нем каждый день, не замечали скованности в его движениях. Сумрак по-прежнему шел, и, казалось им, шел охотно – по их мнению, не хуже любого четырехлетка. Оба заботились о нем как могли, и никому из них в голову не приходило, что ездили они на старой лошади, давно заработавшей себе право на покой и на отдых.
Каждый день после обеда приходила девушка с карманами, набитыми сахаром, и, отказываясь от посторонней помощи, седлала Сумрака и направляла его туда, где открывался широкий, вольный простор. Она трепала его по загривку, расчесывала пальцами его гриву и разговаривала с ним, пока он не спеша выбирал дорогу между скал и кустов. Она часто давала ему отдыхать на крутых подъемах, иногда сходила с седла, чтоб ему было легче. Тогда она опускала руку в карман своего белого платья и доставала для него несколько кусков сахара.
В первый раз Сумрак отнесся к сахару подозрительно. Он понюхал белый кусок и захрапел, но наездница держала сахар у него под носом, пока он не куснул его. Это было неплохо, и он куснул его снова, и еще, и еще, а потом пришло время, когда он стал ожидать кормежки. Случалось ему даже останавливаться и оглядываться назад, на свою всадницу, всем своим видом давая понять, что ему хочется еще, а когда она стояла рядом с ним, он старался залезть к ней мордой в карман и добраться до сахара.
Если б всадница знала, что есть для лошади более сытная пища, чем сахар, она наполнила бы свои карманы зерном или чем-нибудь в этом роде. Но она не знала этого и делала так, как ей казалось лучше.
Пришли теплые весенние дни – дни, когда люди и животные тянутся туда, где солнце и ярче и жарче. Отшумела последняя буря, и с нею окончился отдых Сумрака. Лошади хотелось на волю, когда в ослепительный день девушка пришла и оседлала его. Ей тоже хотелось на волю, ее чувства согласны были с чувством Сумрака.
Сумрак вышел из стойла, и казалось, к ногам его вернулась прежняя гибкость: копыта летели, не чувствуя под собой земли. Старая лошадь вела себя так, будто все в ней просило бега, и у девушки не хватало духу сдерживать ее бодрый порыв. К тому же хозяин конюшни сказал ей однажды, что небольшая пробежка не может повредить Сумраку, потому, спокойно пригнувшись в седле, она предоставила лошади полную волю.
Сумрак отхватывал милю за милей, и виды по сторонам сменялись, как в калейдоскопе. По мере того как он разогревался на бегу, скованность в его членах проходила, он чувствовал себя вновь молодым и брал крутые подъемы, как сильный четырехлеток. Пот потек с него струйками, а потом превратился в белую пену.
Вся его шкура взмокла, и пар повалил от горячего тела, но ему все хотелось скакать, его, как и всадницу, охватило волнение бега, и оба они не понимали, что хорошее дело зашло уже слишком далеко. Волосы девушки летели по ветру, она потеряла свою шляпу, но ей было не до того. Нестись вперед, разрезая ветер, - вот все, что она знала, щеки пылали, лицо улыбалось – она вся была полна радости, жизни и стремления вперед.
Тропинка шла вдоль реки, вверх по каньону, она становилась круче и круче, и старая лошадь дышала все тяжелей и тяжелей, пока, наконец, ее широко раскрытые ноздри не могли уже больше ловить столько воздуха, сколько было ей нужно. Она должна была замедлить свой бег или пасть на пути, но Сумрак не замедлил галопа и ничем не показал, что хочет остановиться. Он был из тех лошадей, которые никогда не сдадутся и будут нестись вперед, пока не остановится сердце.
Девушка не думала ни о чем и продолжала скакать, всем своим существом наслаждаясь чудесным бегом. Она могла бы скакать на старом коне, пока он не умер бы, но тропинка вдруг оборвалась, и дальше нельзя было идти. Дорога размыта была вешними водами, и глубокий овраг шириною в десять футов перерезал надвое склон каньона.
Она остановилась и, очнувшись от забытья, стала искать брода, но брода не было, и единственное, что оставалось, - это повернуть назад по той же тропинке. Она положила руку Сумраку на шею, будто хотела сказать ему: «Вот досада, нет пути», но слова замерли у нее на губах. Она онемела, заметив пот и пену, которыми покрыта была лошадь, а потом, как тяжело она дышит.
Волнение скачки сразу сменилось тревогой и испугом. Она отшатнулась от лошади и посмотрела на нее широко раскрытыми глазами: никогда она не видала, чтобы лошадь так тряслась и дрожала. Казалось, она едва стояла на ногах, покачиваясь взад и вперед, будто каждый миг готова была свалиться. Дымка был запален, и то, как он шатался, наполнило ее ужасом. Она должна была действовать, и действовать быстро.
Первое, что пришло ей в голову, - это постараться остудить его, прежде чем он, как она думала, обомрет от жара. Она бросилась к седлу и возилась с ремнями, пока не распустила подпругу, потом сняла седло и кинула наземь вместе с потником. Пар поднялся со спины лошади, и при виде этого девушка взволновалась пуще прежнего. Тут она заметила внизу, чуть-чуть в стороне, горный поток.
Осторожно провела она лошадь к нему и потом, стараясь придумать, как бы поскорее остудить Сумрака, решила, что лучше всего будет ввести его в воду там, где вода поглубже. Она прыгала с камня на камень, пока не нашла места, где вода была выше колена. Здесь она поставила Сумрака, а сама, сложивши ковшиком руки, принялась плескать холодную снеговую воду ему на грудь, на плечи и на спину.
Она работала с полчаса, пока лошадь наконец не перестала дрожать и, казалось, остыла достаточно и дышит нормально. Немного погодя лошадь напилась и потом напилась еще раз, и, глядя на нее, девушка решила, что худшее позади и лошадь спасена. Она, улыбнувшись, похлопала Сумрака по шее и порадовалась тому, что к нему вернулся его обычный вид.
Солнце спешило к высоким западным отрогам, когда ей показалось, что Сумрак оправился окончательно и можно отправляться назад. Он успел обсохнуть, и ему не было жарко, она все время держала его в тени, а так как горная тень не слишком тепла в это время года, старая лошадь чуть не дрожала от холода к тому времени, когда девушка повела ее к седлу и положила его ей на спину.
По сравнению со скачкой вверх по каньону обратный путь был похож на похоронное шествие: всю дорогу лошадь шла медленным шагом, и все время всадница выбирала тропинки, где было полегче идти. Ее тревожило то, что Сумрак стал на себя не похож: его шаг был неверен, он то и дело спотыкался на ровном месте и качался, как будто от слабости.
Давно уже было темно, когда они добрели до конюшни, конюх стоял у ворот и ждал их. Он встретил ее с улыбкой и спросил:
- Напоили вы Сумрака перед прогулкой?
- Нет, - ответила она, - но я напоила его в горах, прежде чем возвращаться назад.
- Я спросил потому, что новый конюшенный мальчик, которого я нанял, забыл напоить его утром или думал, что я напою.
Седому человеку не пришлось ездить на следующий день на Сумраке, потому что лошадь едва могла выйти из стойла, ее ноги были как деревянные палки и совершенно не гнулись. Голова ее опущена была к самой земле, и она не дотронулась до брошенного в ясли сена.
В полдень в конюшню пришла девушка и готова была заплакать при виде Сумрака, но как раз подошел хозяин, и она постаралась сдержать свои слезы.
- Похоже на то, что лошадь обезножела, - сказал он, останавливаясь около Сумрака.
Он не спрашивал девушку, что она сделала с лошадью: и без того ему все было ясно. Когда сдаешь лошадей напрокат, таких случаев не избежать, к тому же девушка была так расстроена, что у него не хватило духу упрекать ее, и он как мог постарался ее утешить.
- Я буду лечить его всеми средствами, и, быть может, мне удастся его немножко поправить.
У девушки в глазах блеснула надежда.
- Можно мне приходить вам помогать?
С этого дня все время, которое обычно она тратила на верховую езду, она проводила в конюшне с Сумраком. Повязки и лекарства всякого рода были куплены и пущены в ход, и содержатель двора, глядя, как она выбивается из сил, только покачивал головой. Он знал, что в этом не было прока, и если бы лошадь и выкарабкалась из болезни, ей не ходить уже больше под седлом.
Лошадь обезножела. Двадцать четыре часа без воды, быстрая скачка, пот и купанье в ледяном потоке, потом ледяной водопой - все это скрутило ее так, что больше она не годилась ни для чего, разве для того, чтобы шагом тащить повозку.
Месяц прошел, а лечение все продолжалось, девушка не теряла надежды, а потом настал день, когда, придя в конюшню, она не нашла там Сумрака. Она бросилась за хозяином и, обегав весь двор, отыскала его на сеновале.
- Я решил, - сказал он, - что лучше его выпустить на волю. Тут, поблизости, к северу, есть хорошие пастбища, и я отвел его туда, чтобы он поправился на подножном корму.
Но в этих краях не было хороших пастбищ, сколько ни скачи. Содержатель двора солгал, щадя чувства девушки. Выпустить лошадь на волю - значило уморить ее голодной смертью, а держать и кормить бесполезное животное не имело смысла, и ему оставалось одно: он продал Сумрака человеку, который скупал старых лошадей и убивал их на корм для цыплят.
|